14.02.2015 в 11:12
Пишет WTF Rock Around the Clock 2015:WTF Rock Around the Clock 2015: Челлендж, часть 1 + список работ




ИсточникиИсточники:
Бахтин М.А. Вопросы литературы и эстетики. М., Художественная литература, 1975.
Долгополов Л. На рубеже веков: О русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века. М., 1985.
Символы в рок-поэзии. [URL: http: www.dissercat.com/content/lingvisticheskaya-est...]
Тимашева М. Я не люблю пустого словаря // Театральная жизнь. 1987. № 12. С. 31 – 33.
Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
Энциклопедия символов. URL: lib.rus.ec/b/166834


URL записи

| Список работ: WTF Rock Around the Clock 2015 "Символика в русской рок-поэзии" фандомная аналитика "«...а вместо сердца барабан...»" сет порошков "Ну, чё?" дизайн для бесплатного дневника "Abbey Road" дизайн для бесплатного дневника "The Beatles. Discography" сет аватаров "Брайан" хендмейд без туториала "Folk Rock" фанмикс "Дождь для нас" видео |
Название: Символика в русской рок-поэзии
Автор: WTF Rock Around the Clock 2015
Бета: WTF Rock Around the Clock 2015
Размер: 6449 слов
Категория: джен
Жанр: фандомная аналитика
Рейтинг: PG — 13
Краткое содержание: анализ традиционного и новаторского употребления символов в отечественных рок-текстах
Размещение:только после деанона
Для голосования: #. WTF Rock Around the Clock 2015 - работа "Символика в русской рок-поэзии"
Автор: WTF Rock Around the Clock 2015
Бета: WTF Rock Around the Clock 2015
Размер: 6449 слов
Категория: джен
Жанр: фандомная аналитика
Рейтинг: PG — 13
Краткое содержание: анализ традиционного и новаторского употребления символов в отечественных рок-текстах
Размещение:только после деанона
Для голосования: #. WTF Rock Around the Clock 2015 - работа "Символика в русской рок-поэзии"

Слово как бы выделяет что-то из бесконечного мира явлений и предметов и закрепляет это в нашем сознании. Каждое слово в художественном, и особенно стихотворном поэтическом произведении, не только несёт определённый логический смысл, но и входит в текст со своей эмоционально-стилистической настроенностью.
Повторяющийся художественный образ постепенно перестаёт быть индивидуальным «открытием» автора-поэта и становится традиционным поэтическим образом-символом. В русском роке много образов, традиционных для мировой рок-культуры. Трагическое ощущение катастрофичности окружающего мира, болезненное переживание тотальной девальвации высоких, идеальных ценностей в реальной практике сегодняшнего дня, сложное отношение к культурному наследию прошлого — типичные черты рок-мировосприятия, проявляющиеся не в последнюю очередь через обращение к символике в текстах. Ведь благодаря символам автору удаётся выразить содержательно-подтекстовую, а также содержательно-концептуальную информацию, избегая прямых (открытых) способов выражения смысла. Интересно, что поэты с совершенно различными исходными установками и мировоззренческими позициями, поэты разного времени, выражают тем не менее сходное ощущение своего времени.
К наиболее распространённым в рок-поэзии символам можно отнести следующие.
Рок-поэтам небезразлична среда обитания, особое же звучание в их произведениях приобретает урбанистическая тема, что приводит к наиболее частотному употреблению слова «город». В энциклопедии символов приводится следующая информация: «Город создал современную цивилизацию, воплощаясь в материю и постепенно расширяясь, а в ХХ веке он становится мегаполисом, являющимся огромной дырой в изначальном пространстве. Здесь можно спрятаться от природы, стать безличной частью искусственных процессов. Так что современный город содержит в себе оба полюса жизни: с одной стороны — комфорт и удобства, с другой — плохая экология и перенаселенность, переполненность транспортных коммуникаций, т.е. все „прелести“ цивилизации. Город работает как сложенная из многих частей система и имеет свойство энергентности, которое не сводится к сумме составляющих ее частей, а представляет собой некое целое, не обладающее качествами ни одного из этих слагаемых. Потому эти составляющие имеют самостоятельные символические значения»

Развитие урбанистической темы в рок-поэзии определяется именно таким дуалистическим видением города. Во-первых, городской пейзаж — это серая зарисовка, передающая запустение, разорение, распавшуюся связь времен. Он состоит из трамвайных рельсов, шпал, светофоров, фонарей, клеток... Это — урбанизированный, милитаристский пейзаж, мир, населенный неодушевленностью, и даже живое сравнимо в нем с мертвым:
За спиной остался город из стекла и камней
Фантастических узоры бесконечных огней
(Пикник. «Пикник»).
Где-то между камней город лежит в тисках
(Пикник. «Истерика»).
Город для лирического героя становится каменными джунглями. Он представляется рок-поэтам чем-то чужим, опасным, жестоким, злым. Возникает образ войны, агрессии:
В этом городе цвет и свет фонарей,
Всё готовит на подвиг, на войну
(Пикник. «Истерика»).

Моя земля просит воды,
Мой город переполнен и зол,
как сжатый кулак
(К. Кинчев. «Ветер перемен»).
Лирический субъект рок-поэзии — дитя города, но душа его интуитивно тянется к «живой природе». Если в традиционной лирике принято противопоставлять хищной технике бедную природу, то в рок-поэзии мы не находим ни восхищения мощью техники, ни культового отношения к природе. Для поэтов и то и другое — составные элементы культуры, части единого целого.
Довольно чётко прослеживается в творчестве рок-музыкантов мотив опустошенности, бездушия города:
Нагие поезда, пустые города
Пришедшие, увы, в упадок навсегда!
(Б. Гребенщиков. «15 голых баб»).
Можно также предположить, что стекло связано с мотивом открытости, незащищённости — вся жизнь проходит на виду, но жители города не обращают друг на друга внимание, следуя мимо, как мимо витрин, к которым уже привыкли.
Второй лик города — иной, узнаваемый, близкий мир, в котором герой чувствует себя свободно и естественно, поэтому закономерно звучит признание:
Город приравнивается к близкому человеку, и это придает особую, интимную связь города с лирическим героем.
Рок-барда А. Башлачев лишь последние три года жизни связывают с Петербургом, но в его стихах отражено удивительно гармоничное слияние судьбы города и судьбы лирического героя:
Здесь употребление слова «город»осуществляется опосредованно, на уровне ассоциаций, в частности — через использование упоминание Летнего сада. (Интересно, что это словосочетание служит в то же время средством языковой игры на уровне созвучия: «голым Летним садом», которая становится очевидной в соседстве с словами «вина» и «розги».)

Город может приобретать дополнительное значение «жизнь»:
Скажи, кукушка, пропой
В городе мне жить или на выселках
Камнем лежать или гореть звездой
(В. Цой. «Кукушка»).
В этом контексте, «город» и «выселки» (= кладбище) противопоставляются как «жизнь» и «смерть».
Образ города может конкретизироваться. Это проявляется в частотном употреблении в текстах Петербурга. Почему именно этот город привлекает внимание рок-поэтов? В.Н. Топоров отмечает что «и призрачный миражный Петербург (фантастический вымысел, сонная греза), и его (или о нем) текст, своего рода «греза о грезе», тем не менее принадлежат к числу тех сверхнасыщенных реальностей, которые немыслимы без стоящего за ними целого и, следовательно, уже неотделимы от мифа и всей сферы символического».
Особое значение для духовно-культурной сферы имеют мифы и предания, пророчества, литературные произведения и памятники искусств, фигуры петербургской истории и литературные персонажи, все варианты очеловечивания города. С формальной точки зрения, петербургскому тексту присуще широкое применение приемов гротеска, гиперболизации, фантастического и иронического описания быта, овеществление живого.
Среди типов петербургских мифов четко выделяется противопоставление: «божественное» — «дьявольское». В легенде, мифе о Петербурге город уподобляется живому существу, которое было вызвано к жизни роковыми силами, и столь же роковыми силами может быть низвергнуто в прародимый хаос. Петербургский текст и, соответственно, петербургский миф неотделимы от образа создателя города. «В народных преданиях Петр — антихрист, порождение Сатаны, подмененный царь. Город, основанный им, не русский (то есть не истинный, противоестественный) город, его удел — исчезнуть с лица земли. В письменной литературе, напротив, Петр — личность исключительная, герой, титан, полубог. «Город, основанный им, есть великое дело, которому суждено существовать в веках», — отмечает Л. Долгополов.

Немаловажное значение имеет тот факт, что и писатели, и поэты настойчиво стремятся обозначить произведения, входящие в Петербургский цикл, именно как «петербургские». «Эпитет "петербургский" является своего рода элементом самоназвания петербургского текста („Медный всадник“ имеет подзаголовок „Петербургская повесть“, „Двойник“ — „Петербургская поэма“; „Петербургские повести“ Гоголя, рассказ Некрасова „Петербургские углы“ (сб. „Физиология Петербурга"), „Петербургская поэма“, цикл из двух стихотворений Блока (1907), „Петербургские дневники“ Гиппиус, „Петербургские строфы“ Мандельштама, „Петербургская повесть“ как название одной из частей „Поэмы без героя“ Ахматовой и т.д.). Спецификация „петербургский“ как бы задает некое жанровое единство многочисленных текстов русской литературы», — делает вывод В.Н. Топоров.
Среди параметров Петербургского текста В.Н. Топоров выделяет и особые ситуации: «Из соотношения противопоставленных частей внутри природы и культуры и возникают типично петербургские ситуации: с одной стороны, темно-призрачный хаос, в котором ничего с определенностью не видно, кроме мороков и размытости, предательского двоения, где сущее и не сущее меняются местами, притворяются одно другим, смешиваются, сливаются, поддразнивают наблюдателя (мираж, сновидение, призрак, тень, двойник, отражения в зеркалах, „петербургская чертовщина“ и под.), с другой стороны, светло-призрачный космос как идеальное единство природы и культуры, характеризующийся логичностью, гармоничностью, предельной ясностью, вплоть до ясновидения и провиденциальных откровений».
М. Тимашева пишет, что Ленинград стал центром отечественного рока, хотя «все начиналось в Москве», что «Ленинград выносил и молодежную культурную революцию», которая произошла «в тот момент, когда рок-культура осознала себя частью нашей культуры... Лирический герой, которого вырастил ленинградский рок, — герой исповедующийся, идущий от того, что принято называть внутренним миром личности».
Лирический герой, личность автора в текстах петербургских рок-композиций, подобно героям петербургских повестей Гоголя, предстают чаще всего как «жертва Петербурга», для которой характерна позиция страха, неуверенности, одиночества и бессилия.

Интересны попытки создать социологизированный городской пейзаж (Ю. Шевчук, А. Башлачев, И. Кормильцев), явно связанный с мировоззренческим комплексом рок-поэтов:
Сегодня город твой
стал праздничной открыткой,
классический союз
гвоздики и штыка,
Заштопаны тугой, суровой красной ниткой
все бреши твоего гнилого сюртука
(А. Башлачев. «Петербургская свадьба»).
То, что это именно Петербург, конкретизируется сочетанием: Классический союз гвоздики и штыка, — указывающим на всем известный факт, что Ленинград — город трех революций. Такая ассоциация передаётся через употребление символов «гвоздика» («революционный» цветок) и «штык» (военные асоциации). Дух Петербурга вообще и его архитектура в частности глубоко дуалистичны: это и революционное советское настоящее в жизни А. Башлачёва (Заштопаны тугой, суровой красной ниткой — символика цвета связана с реалиями советского времени), и имперское прошлое (Все бреши твоего гнилого сюртука.
У Ю. Шевчука находим:
Здесь, наряду с ироническим перечислением искажённых, трансформированных названий (Марсово поле — Марсово пастбище; Зимний дворец — Зимнее кладбище), происходит персонификация города, а междометие «эй» придает довольно фамильярную манеру общения между человеком и Петербургом. Интересна градация в названиях одного и того же города: Ленинград становится в итоге Петроградищем, что говорит о масштабности и величии этого удивительного города.
У Б. Гребенщикова Петербург предстает как «вечный город», подобный Риму и Вавилону, но от этого не менее чужой человеку. Для этого автора, в отличие от Шевчука и Башлачева, Петербург воплощает, прежде всего, символ Дома как сакрального пространства, но Дома погибающего. Общий мотив «пустого дома» объединяет несколько гребенщиковских композиций («Пески Петербурга», «Вавилон», «Молодые львы»):
Следует сказать, что рок-поэты по-разному могут относиться к Петербургу: любить, боготворить его либо проклинать и ненавидеть. Но в рок-текстах он всегда олицетворяется — это всегда живое существо, которое может либо поглотить, свести с ума лирического героя, либо дать ему надежду, и научить его любить:
Таким образом, можем предположить, что Петербург не только теперь, но и во все времена манил поэтов своей мистической загадочностью, историей возникновения, величием и магической красотой.
Продолжает символику пространства образ пути (дороги), который напрямую связан с понятием хронотопа. У М.М. Бахтина мы находим следующее: «Хронотоп дороги обладает широким объемом, но несколько меньшей эмоционально-ценностной интенсивностью. Встречи в романе обычно происходят на дороге. Дорога — преимущественное место случайных встреч. На дороге («большой дороге») пересекаются в одной временной и пространственной точке пространственные и временные пути много различнейших людей — представителей всех сословий, состояний, вероисповеданий, национальностей, возрастов. Здесь могут случайно встретиться те, кто нормально разъединен социальной иерархией и пространственной далью, здесь могут возникнуть любые контрасты, столкнуться и переплестись различные судьбы. Здесь своеобразно сочетаются пространственные и временные ряды человеческих судеб и жизней, осложняясь и конкретизуясь социальными дистанциями, которые здесь преодолеваются. Это точка завязывания и место совершения событий. Здесь время как бы вливается в пространство и течет по нему (образуя дороги), отсюда и такая богатая метафоризация пути-дороги: «жизненный путь», «вступить на новую дорогу», «исторический путь» и проч.; метафоризация дороги разнообразна и многопланова, но основной стержень — течение времени.
Путь поколения — это путь максимализма: «Нет смысла идти, если главное — не упасть» (А.Башлачев). Возникает противопоставление героя окружающей среде, трагический мотив разобщенности, несовместимости и раздвоенности. У каждого есть выбор: иметь теплый дом, обед и свою доказанную верную теорему или искать, двигаться по лужам вперед сквозь черную неизвестность ночи:
Путь, который предстоит пройти, неизведан и опасен, в интерпретации В. Цоя, К. Кинчева, Б. Гребенщикова он приобретает романтические черты:
Этот мотив опасного пути как и мотив «единения» принят рок-поэтами от бардов-шестидесятников, однако масштабы движения несоизмеримы с идеей пути предыдущего поколения. А. Макаревич прямо связывает пути шестидесятников и рок-поколения:
Герой отправляется на поиски гармонии с окружающим миром. Такой путь не только романтичен, но и овеян ореолом святости (появляется символика Звезды):
В другом случае: ...я стоял и смотрел, как горит звезда / Того, кто ушел в свой путь (Б. Гребенщиков. «Уйдёшь своим путём») — путь имеет совершенно другую символику. Это путь в вечность, за пределами жизни.

Непосредственно с дорогой связан перекрёсток. В словаре символов говорится: «Символ выбора, но вместе с тем и единства противоположностей; место встречи времени и пространства; магическое и опасное место, где встречаются демоны и ведьмы. Самоубийц, вампиров и злодеев хоронили на перекрестках, чтобы они заблудились и не смогли вернуться для преследования живых. Посвящен Гекате, которой приносились в жертву собаки на перекрестках. Ассоциируется также с Ганешей и Янусом».
Рок-поэзии присущ космизм. Она пронизана ощущением пространства, расширяющегося до масштабов Вселенной («образ, открытый миру»). Но все это не самоцель для рок-поэтов, а напряженный духовный поиск, осмысление себя во Вселенной, места человека в мире. Перекрёсток у рок-поэтов связан с выбором, как отличить добро и зло, куда направить свой жизненный путь:
В рок-поэзии перекрестку часто приписываются черты человека:
Этот символ содержит в себе мистическую силу, неподвластную человеку.
Другой символ, связанный с образом пути — поезд. Ещё у Пастернака встречается образ поезда. Поезд представлен как посланец из иной реальности — не случайно нагнетается трагическая «потусторонняя» атмосфера. У Есенина, в стихотворении «Сорокоуст» противопоставляется хищной железной технике — поезду, природа, в лице жеребенка, пытающегося обогнать «железного коня»:

видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунный поезд?
Наследники традиций Пастернака, Есенина, поэты, передающие реальность через свое обостренное восприятие, тоже нередко обращаются к образу поезда. Наиболее значительные из авторов, которых можно назвать рок-поэтами, неоднократно писали о поезде в мир иной, даже поезде-вестнике смерти. Другое дело, что меняется само отношение к смерти, которая не пугает, а становится обителью желанного отдохновения. Например, Б. Гребенщиков, пройдя богатейшую практику самосозерцания, обрел настолько прочную уверенность в наличии запредельного бытия, что может позволить себе ироничную игру с некротической символикой, например, в «Дне радости» («Письма капитана Воронина», 1992 г.):
Игра не кажется кощунственной — это своего рода психологическая разрядка после тяжелых духовных испытаний. Смерть для лирического героя — чудесный мир, где все иначе и куда можно попасть лишь по некоей астральной железной дороге. В «Великой железнодорожной симфонии» Б. Гребенщиков представляет земную реальность не более как декорацией, ему чужд восторг. Пространство изначально очень неопределенно, действие полностью перенесено в другие сферы. Из текста удалено все, что хоть отдаленно напоминает о материальности, даже рельсы подвержены распаду:
Или у А. Макаревича в тексте «Вагонные споры», пассажиры рассуждают о том, что такое жизнь. Один уподобляет её поезду, который все мчится куда-то: Один говорил: «Наша жизнь — это поезд», другой, что вся наша жизнь — это ожидание чего-либо: Другой говорил: «Перрон» (А. Макаревич. «Вагонные споры»). Небольшое по объёму произведение становится ярким примером вечной философской проблемы «В чём смысл жизни?»
Ближе всего к пастернаковскому слиянию поэта с поездом оказывается К. Кинчев — лидер группы «Алиса». Песни «Перекресток», «Камнепад», «Поезд» несут в себе элемент игры, которая нередко становится для его лирического героя спасительным укрытием. В этой мрачной игре можно различить два уровня. Первый — это манипулирование атрибутами культуры и субкультуры, вводящее то в асоциальность, то в язычество, то и вовсе в сатанизм, не всерьез, а просто поэт «доигрался». Второй слой — это «театр для себя», в котором нет и не может быть зрителей, а персонажи — только маски, которые беспрестанно меняет хозяин. Их великое множество — и, заплутав в чужих обличиях, автор обнаруживает, что собственное лицо потеряно. В этом втором слое он уже не идет напролом, но и не плывет по течению, а нащупывает некий путь «поперек». В произведениях на эту тему звучат и символические, и импрессионистические мотивы. Автор не может найти себя. Когда поэт не стыкуется с привычным миром, и возникает образ упущенного поезда:
То есть этот отсутствующий поезд мыслится примерно такими же символами «союзник» и «спаситель», как у Пастернака, и смыслом «обреченность» — от опоздания на него. Схожая ситуация отслеживается и в «Камнепаде»:
Мучительные блуждания героя, казалось бы, завершаются в стихотворении «Поезд». Однако поезд, который должен привести к более гармоничному бытию, идет не туда:
Поезд «двинулся» в направлении, противоположном Пастернаку, у которого он появлялся как впечатление и перерастал в символ. В рок-поэзии, как видим, он обычно уже предстает символическим странником.
Для поэта такие понятия, как свобода, воля, являются определяющими во всём творчестве. Некоторые поэты на протяжении всей жизнь борются за возможность быть свободным: Где моя сила, моя любовь, моя свобода, / Какой, какой за мной грех? (Пикник. «Истерика») Но традиционное стремление к идеальному, запредельному в мироощущении рок-поэтов сталкивается с внешними ограничителями: от назойливых бытовых проблем до гротескно «больного мира», подавляющего и уничтожающего героя, не дающего ему реализоваться во всей полноте своих чувств и устремлений. Поэтому Небо обращается в запертую клеть (Б. Гребенщиков. «500»). Часто лирический герой обретает свободу слишком дорогой ценой, пройдя через разрушения и потери:

В рок-поэзии часто встречается символика смерти. Смерть касается всего, что развивается во времени: обществ, культурных систем, предметов, людей. Смерть многолика — даже если говорить о смерти как об исключительно человеческом качестве, то можно выделить смерть физическую (разрушение тела), биологическую (остановка жизненно важных функций организма), психическую (сумасшествие), социальную (уход из активной общественной и практической деятельности). Поэтому образ смерти — одно из самых устойчивых символов представлений, настроений, эмоций, изучение которого позволяет выявить определенные закономерности и тенденции в формировании жизненных установок и моделей поведения. Обычно вопрос об отношении человека к смерти связывают с чувством страха, тревожного ожидания: Только мертвый не боится смерти (Сплин. «Пластмассовая жизнь»).
Большой интерес ко всему «загробному» проявляет группа «Агата Кристи». Это связано с эстетической («декадансной») позицией этой группы. Для них «смерть» = «счастье». Часто лирический герой обретает душевное спокойствие только после физической смерти:
Отличная ночь для смерти и зла
(Агата Кристи. «Трансильвания»).
Ты будешь мертвая принцесса,
А я твой верный пес
(Агата Кристи. «Опиум для никого»).
Здесь можно выделить несколько подгрупп символов.
К первой подгруппе — «Небесные светила» — относятся небо, солнце, луна, звезда.

Небо в словаре символов «означает трансцендентность, бесконечность, высоту, царство блаженства, высшую власть, порядок во Вселенной. Боги Неба — это, обычно, Творцы. Они всемогущи и всеведущи и символизируют космические ритмы. Это стражи Закона. При матриархате небесные божества обычно женского пола, иногда боги Неба бывают бесполыми. В индуистской символике Небо — это сито, через которое выдавливается сок Сомы, падающий в виде дождя, оплодотворяющего земли и сопровождающийся громом и молнией Небо и земля олицетворяют дух и материю и, как правило, отцовское и материнское начала, за исключением символизма Египта, Океании а также тевтонской символики, где ситуация противоположная. В ритуальной архитектуре изображаются сводом, ступой, чортеном, либо центральным отверстием в шатре, навесе и сакральной постройке Повсеместно они изображаются синим цветом, но иногда черным На Дальнем Востоке символизируются драконом, а земля — белым тигром, а также дымкой и горой, конем и быком».
Путь искания сложен и драматичен для лирического героя. Прежде чем обрести мистическое зрение, он должен пройти испытание на прочность. И в этом плане для современной рок-поэзии традиционен романтический мотив порогового состояния личности, отражающий глубинный духовный конфликт героя, находящегося между небом и землей, твердью и бездной, жизнью и смертью: Слева небеса, справа пустота,/ А я иду по проволоке между них (Б. Гребенщиков. «Обещанный день»).
Небо в рок-текстах, как правило, имеет значение «высшая сила, которая либо хранит лирического героя»:
Либо оказывается безжалостным к нему:

Слово «солнце» в словаре-символов означает: «символ высшей космической силы Всевидящее божество и его власть, неподвижное существо, сердце космоса, центр бытия и интуитивного знания, разум мира (макробиус), просветление, глаз мира и глаз дня, непокоренный, слава, величие, правосудие, царственность Это видимый образ Божественной Благодати, , трансцендентный архетип Света (Дионисий) Нет ничего доступного взору во всем мире, что было бы более достойно служить символом Бога, нежели , которое проливает свет видимой жизни сначала на себя, а затем и на все небесные и земные тела (Данте)».
Солнце — это, как правило, идеальная звезда, которая не только светит, но и греет:
Солнце это звезда, но звезда уникальная, единственная, видящая всех и всё, и повторяющаяся лексема одно подчеркивает его уникальность:
Стоит сказать, что у В. Цоя это один из самых любимых символов. Солнце отсчитывает дни, решает все:
Часто солнце становится холодным и безжалостным:

Луна же «как правило, олицетворяет женскую силу, Мать-Богиню, Царицу Небесную. Исключением являются некоторые африканские и североамериканские индейские племена, а также тевтоны, племена Океании, маори и Япония, где является мужским производительным принципом повсеместно является символом циклического ритма времени, универсального становления. Фазы зарождения, исчезновения и появления Луны на небосводе символизируют бессмертие и вечность, постоянное обновление, просвещение. Кроме того, олицетворяет темную сторону природы, ее невидимый аспект; духовный аспект света во тьме; внутреннее знание, интуитивное, иррациональное и субъективное; человеческий разум в виде отраженного света боже-ственного Солнца. Является символом глаза ночного, а Солнце является глазом дневным символизирует также периодическое возобновление творения, время и меру. Раньше время измерялось фазами Луны, поэтому она считалась носителем перемен, страдания и упадка, условием жизни человека на земле. Изменяясь в своих фазах, она символизирует область становления. Камы управляет приливами, дождями, водами, наводнениями и временами года, а следовательно, и ходом жизни».
В рок-поэзии луна персонифицируется, она является носителем женского начала:
Луна может выступать символом высшей силы:

«Звезда» в словаре символов означает присутствие божества, верховенство, вечное и неумирающее, высшее достижение, ангела — посланца Бога, надежду (сияющую во тьме), глаза ночи. Звезды — атрибуты Небесных Цариц, у которых короны часто состоят из звезд. Утренняя или вечерняя звезда является символом преимущественно Иштар, или Венеры. Полярная звезда обозначает точку на небе, вокруг которой в ночное время вращается небосвод и, соответственно, Небесные Врата. В индуистских брачных ритуалах звезда — символ постоянства. В Египте фараон после смерти идентифицировался с Полярной звездой. Четырехлучевая звезда (позднее Мальтийский крест) — это древняя форма Шамаша как солнечного бога любви и правосудия Пятиконечная звезда, обращенная вверх, символизирует вдохновение, свет, духовное образование; пятиконечная звезда, обращенная вниз, — зло, колдовство, черную магию. Шестилучевая звезда — знак Творения и Печать Соломона. Это комбинация мужского и женского треугольников, а также огня и воды. Восьмилучевая звезда в круге — неиконический образ Гулы, супруги Шамаша. У ацтеков утренняя звезда — это восходящая, духовная, мужская сила Солнца, а вечерняя звезда — нисходящая, земная, женская сила Луны. У китайцев звезда, или звезды, с Солнцем и Луной означают духовную мудрость правителей. В христианстве звезда олицетворяет божественное водительство и благорасположение, рождение Христа. Дева Мария, как Царица Небесная, носит корону из звезд, так же, как и Стелла Марис Двенадцать звездской мифологии зеркало — атрибут Тецкатлипока. Это сияющее или дымящееся зеркало имеет солярное и лунное значение, как атрибуты солнечного бога Лета и лунного бога Вечера. В даосизме зеркало символизирует самореализацию. При рассмотрении человеком своей природы зло уничтожается, увидев свое ужасное отражение: Зло разрушается, когда узнает себя Зеркало символизирует, кроме того, ум мудреца: Ум мудреца, находясь в покое, становится зеркалом вселенной (Чуанг Цу) В семитской традиции (в хиттитском искусстве) зеркало символизирует женское божество, в то время как гроздь винограда — мужское.
Символ звезды — это особенный образ. Звезда в рок-поэзии является живым существом:
Звезды — это, как правило, некоторая высокая, недостижимая цель, часто не до конца определенная самим автором (возможно, именно поэтому родился этот символ):
Для лирического героя звезда часто становится путеводной и светит только для него:
Ко второй подгруппе — «Природные стихии» — относятся ветер и огонь.

В Словаре символов ветер «символизирует дух, живое дыхание вселенной, силу духа в поддержании жизни и объединении всего живого, в связи с чем возникла ассоциация ветра с веревками, нитями и т. п. Веревка ветра, Нить то же, что и ветер (Упанишады) олицетворяет нечто неосязаемое, преходящее, бестелесное и неуловимое Ветры как посланцы богов, а особенно вихри(см-), могут указывать на присутствие божества вместе с огнем символизируют богов гор и вулканов. В китайской медицине метод нахождения благоприятных точек для иглоукалывания называется фэншуй (ветер и воды) Четыре Ветра Эола, обычно изображаются в виде детей, детских голов, появляющихся из-за облаков, или безбородых мужчин, дующих или трубящих в рог иногда символизируется крыльями или опахалом Эол — бог ветров и всех музыкальных инструментов, издающих звуки с помощью движения воздуха».
В рок-поэзии, например, у В. Цоя символ «ветер» воплощает творческую силу как противоположность обывательскому застою, нравственной смерти:
В лирической ветви рок-поэзии одним из излюбленных приемов является прием уподобления. Сущность лирического субъекта выявляется через олицетворение:
Почему автор использует определение именно «северный ветер»? Можно предположить, что этот символ восходит еще к творчеству В. Шекспира. В одном из монологов, Гамлет говорит: «Я бываю безумным лишь, когда дует северо-западный и северный ветры; когда же дует южный, то я всегда сумею отличить ястреба от цапли» (В. Шекспир. «Гамлет»). Образ ветра наделяется особым символическим значением «сумасшествие».
Ветер может превращаться в странника:

Огонь, по словарю символов, «символизирует трансформацию, очищение, дающую жизнь производящую силу Солнца, обновление жизни, оплодотворение, силу, мощь, энергию, невидимую энергию в процессе осуществления, сексуальную силу, защиту, оборону, видимость, разрушение, слияние, страсть, мольбы, перемену одного состояния на другое, либо переход в него, способ передачи сообщений или приношений Небесам Пламя олицетворяет духовную силу, трансцендентность и озарение, свидетельствует о наличии божества или души, пневмы, вздоха жизни; воодушевление и просвещение Пламя на голове или вокруг нее, подобно нимбу, свидетельствует о божественной силе, потенции души или гении, поскольку голова рассматривается как место нашей жизненной души Пламя покидает тело в момент смерти и пламя — типичные символы сердца».
Огонь в рок-поэзии символизирует либо человеческую жизнь:
— либо разрушительную, стихийную силу:
В этом случае огонь связан с очищением.
Время в словаре символов характеризуется таким образом: «Символизирует творение и разрушение порождает все, что было, есть и будет (Бхагавад Гита) в своем движении уничтожает мир (Упанишады). Оно также олицетворяет отступление от истины и возврат к ее истокам. Это разрушительная сила и, в то же время, открыватель истины. Слова некогда, давным-давно символизирует Золотой Век гармонии и неограниченных возможностей Остановка времени — это прорыв к просветлению и вечности Черная Кали символизирует время пожирающее, безжалостного уничтожителя. Черные девушки символизируют неразделенное, prima materia, иррациональное, лунное, темное, женское начало времени. Символы времени — песочные и другие часы, серп, змея, вращающееся колесо, круг (как символ бесконечного цикла, но и как завершенности космоса), коса, жнец, который в то же время Кронос (Сатурн) как олицетворение времени Лунные животные и символы также ассоциируются со временем».

Образ времени в рок-текстах мыслится не как культурно-исторический контекст, но как категория объективная и независимая, основной источник драматических коллизий, определяющий сущность и характер человеческого бытия:
Переживание времени обусловило не только тематический поворот к истории, но и исторический подход к современности:
Часто в рок-текстах образу времени приписываются черты человека, используется приём олицетворения. Оно является товарищем лирического героя:
Либо беспощадным, безжалостным судьёй:
Ночь в словаре символов имеет такую трактовку: «Как и темнота ночь означает докосмическую и предродовую тьму, предшествующую воз-рождению или инициации и просветлению. Это также хаос, смерть, безумие, разрушение, возвращение к утробному состоянию мира. Согласно Гесиоду, ночь — это Мать Богов, окутывающий материнский аспект женской силы Она обычно символизируется женской фигурой в усыпанной звездами вуали, держащей на одной руке черного ребенка (т.е. смерть), а на другой руке белого (т.е. сон). Кроме того, символами ночи являются нарождающаяся Луна, мак, сова или черные крылья, время всепожирающее День и ночь могут изображаться в виде черной и белой крысы. Идти под покровом ночи — означает тайное знание».
В рок-текстах день и ночь четко противопоставлены . Ночь в рок-поэзии приобретает традиционное значение «тёмные силы»:

Ночью по лесу идет сатана
И собирает свежие души
(Агата Кристи. «Сказочная тайга»).
Но я живу не видя дня
Во мраке бесконечной ночи.
И нет надежды у меня
В гробу смыкаю очи
(Король и Шут. «Вампир»).
Вместе с тем, лирический герой, чувствует своё родство с ночью, ведь только тогда раскрывается истинная сущность человека:
В рок-поэзии ночь сильнее, могущественнее света:
День же, напротив, враждебен герою:
Наделяются символикой и употребление слов, обозначающих времена года. И осень и весна символизируют какие-либо перемены. Осень, как правило, в рок-поэзии символизирует умирание природы:
Прилагательное «осенний» становится синонимом «погребального», что символизирует смерть.

Это слово может даже приобретать значение «отвращение»:
В городе старый порядок!
В городе старый порядок!
Осень!
Который день идет дождь.
Время червей и жаб!
Время червей и жаб!
Слизь!
(К. Кинчев. «Время менять имена»).
Весна же, напротив, символизирует пробуждение к новой жизни:
Глубокие философские размышления над смыслом бытия разворачи-ваются поэтически как контрастирующие параллелизмы. Добро противопоставлено злу, душевный покой — смятению, философская радость бытия — неверию и отчаянию. И, наконец, за диалектикой добра и зла проступает еще одна грань безрассудства героев рок-поэзии — абсурдность любого конфликта перед лицом Вечности: Слишком короток век — не прошел бы за спорами весь (А. Макаревич. «Слишком короток век»).
Рок-поэты смысл жизни видят в том, чтобы противостоять злу. Окружение лирических героев часто недоброжелательно, враждебно. Это и реальные злость, зависть, мистические флюиды и символическое одиночество Звезды в космическом просторе:
Диалектика Добра и Зла развивается в идею духовной борьбы (войны), как проявление движения. Лирический субъект уходит на войну, на войну между «землей и небом» человеческого духа. Она происходит в нем самом, она происходит в каждом человеке. У каждого есть выбор: иметь теплый дом, обед и свою доказанную верную теорему или искать, двигаться по лужам вперед сквозь черную неизвестность ночи:
Сердце в Словаре символов трактуется следующим образом: «центр существа, как физический, так и духовный, божественное присутст-вие в центре олицетворяет центральную мудрость, мудрость чувства в противовес рассудочной мудрости головы. Оба способа разумны, но сердце — это еще и сострадание, понимание, место тайное, любовь, милостыня. Оно содержит кровь, то есть жизнь символизируется Солнцем, как центр жизни. Сияющее Солнце и пылающее сердце являются символами центров макрокосма и микрокосма, означая человека и Небеса, трансцендентное разумение также часто изображают треугольником, опирающимся на вершину. У ацтеков сердце — центр человека, религии и любви, объединяющий жизненный принцип. Принесение сердца в жертву символизировало высвобождение крови, то есть жизни, посев жизни, чтобы она зародилась и расцвела. Пронзенное сердце означает покаяние. В буддизме сердце — суть природы Будды Алмазное — это чистота и несокрушимость; человек, которого ничто не может повредить, вывести из равновесия. В китайском буддизме сердце является одним из Восьми Драгоценных Органов Будды. У кельтов Доброе сердце символизирует благородство и сострадание; является антитезой дурному глазу. У христиан сердце — любовь, понимание, смелость, радость и печаль. Пылающее сердце означает религиозное рвение и приверженность вере в руке символизирует любовь и благочестие; сердце, пронзенное стрелой, — это сокрушенное, покаявшееся сердце».
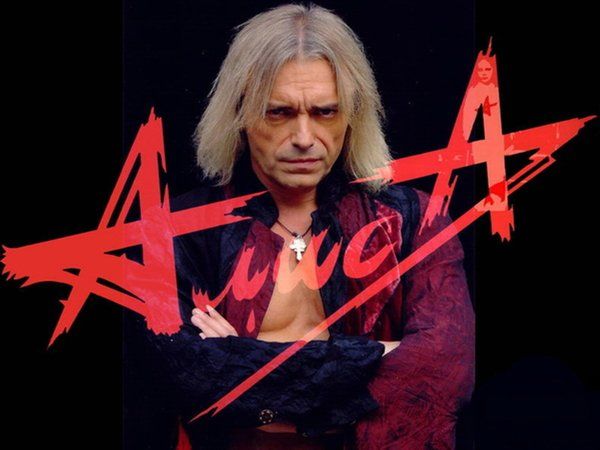
Сердце, или душа (практически всегда эти слова выступают синонимами) в рок-поэзии встречаются очень часто. Причем, как правило, сердце у поэтов разбито, покорежено, растоптано:
Разбили рожу мою хмельную?
Убейте душу мою больную!
(А. Башлачев. «Ванюша»)
Душа — это птица. Её едят.
Мою жевали почти тридцать лет
(К. Кинчев. «Новая кровь»).
Нередко проводится параллель «душа — птица». Птица всегда была символом свободы, вольности. Но в данном контексте птица — это мясо, которое употребляют в пищу. Этой еде уподобляется и душа лирического героя.
Сердце становится у рок-поэтов самым главным, самым важным. Оно всегда выдвигается на первый план, только по зову сердца поэты живут, любят, страдают:
Вместе с тем, душа, или сердце, приобретают оттенок значения «что-то очень тонкое и нежное»:
Частотным символом в рок-текстах является зверь. Это, как правило, какое-то мифическое существо:
Иногда в рок-поэзии лирический герой узнает в себе какие-либо черты, роднящие его со зверем, или даже уподобляет себя ему:
Словом «зверь-одиночка» подчеркивается нечеловеческая сущность лирической героини, её безумное волчье одиночество среди мира людей.
Образ зверя часто конкретизируется в рок-поэзии, и это, как правило, волк:

Черный ветер гудит под мостами,
Черной гарью покрыта земля
Незнакомые смотрят волками
И один из них может быть я
(Б. Гребенщиков. «Голубой огонек»).
«Образ волка связан с определенным символическим рядом ассоциаций, неизменно повторяющимся в разные времена и у разных народов, в том числе и не имеющих общей праистории. Это общность образов волка и собаки. Часто повторяющаяся связь зверя-волка с солнцем или солнечным божеством. Роль волка-собаки как посредника между небесным и подземным миром, а также проводника в загробном царстве. Чаще всего повторяется военная символика волка: волк — покровитель воинских сообществ, а воинственные нации часто называют волка своим прародителем. В патриархальных обществах образ волка тесно связался с ролью жениха или похитителя женщин, соответственно насыщаясь эротической символикой. Со временем волк начинает ассоциироваться с преступником, разбойником из дикой глуши», — находим в Словаре символов.
У Гребенщикова в приведённом контексте слово «волк» употребляется в значении «враг, неприятель». То же самое употребление находим и у Цоя:
Особняком в рок-текстах стоит употребление прилагательного «черный». В Словаре символов «черное — это первобытная тьма, неявленное, пустота, зло, тьма смертная, позор, отчаяние, разрушение, испорченность, горе, печаль, унижение, возвещение, тяжесть, постоянство. Черное означает время жесткое, беспощадное и иррациональное, и ассоциируется с темным аспектом Великой Матери, особенно с Кали, которая есть Кала-Время, и с черными девственницами Черный или иссиня-черный Цвет хаоса На Западе черный ассоциируется с трауром и с мрачным аспектом колдовства, черной магии, черных искусств».
В рок-поэзии черный цвет означает что-то мистическое, потустороннее, страшное:
Ворона — это уже с древнейших времен, зловещий символ, особенно карканье ворон. Ещё у Н. Гумилева в одном из самых известных его стихотворений «Заблудившийся трамвай» карканье ворон — это предвестник встречи с потусторонним миром:
Особую роль здесь играет и само название произведения. Вся жизнь лирического героя превратилась в сплошное черное пятно. Солнце, лучи, ветер, красота — всё приобретает черную окраску.
У «Агаты Кристи» — в связи с эстетической позицией группы, для того, чтобы выдержать стилистику песен — черный цвет для них становится самым любимым («Я обожаю черный цвет»):
Очень часто рядом с эпитетом «черный» находится слово «смерть»:
Словом «смерть» подчеркивается, насколько зловещ и опасен черный цвет. С символом черной машины можно провести параллель еще со сталинскими временами, «страшные годы ежовщины» (А. Ахматова «Реквием»), когда на таких машинах забирали «госпреступников».
Итак, в рок-поэзии существуе символы, употребление которых связано с традициями, но в то же время рок-поэты вносят что-то новое, исключительное, характерное именно для этого направления музыки.
Повторяющийся художественный образ постепенно перестаёт быть индивидуальным «открытием» автора-поэта и становится традиционным поэтическим образом-символом. В русском роке много образов, традиционных для мировой рок-культуры. Трагическое ощущение катастрофичности окружающего мира, болезненное переживание тотальной девальвации высоких, идеальных ценностей в реальной практике сегодняшнего дня, сложное отношение к культурному наследию прошлого — типичные черты рок-мировосприятия, проявляющиеся не в последнюю очередь через обращение к символике в текстах. Ведь благодаря символам автору удаётся выразить содержательно-подтекстовую, а также содержательно-концептуальную информацию, избегая прямых (открытых) способов выражения смысла. Интересно, что поэты с совершенно различными исходными установками и мировоззренческими позициями, поэты разного времени, выражают тем не менее сходное ощущение своего времени.
К наиболее распространённым в рок-поэзии символам можно отнести следующие.
1. Символика пространства
Рок-поэтам небезразлична среда обитания, особое же звучание в их произведениях приобретает урбанистическая тема, что приводит к наиболее частотному употреблению слова «город». В энциклопедии символов приводится следующая информация: «Город создал современную цивилизацию, воплощаясь в материю и постепенно расширяясь, а в ХХ веке он становится мегаполисом, являющимся огромной дырой в изначальном пространстве. Здесь можно спрятаться от природы, стать безличной частью искусственных процессов. Так что современный город содержит в себе оба полюса жизни: с одной стороны — комфорт и удобства, с другой — плохая экология и перенаселенность, переполненность транспортных коммуникаций, т.е. все „прелести“ цивилизации. Город работает как сложенная из многих частей система и имеет свойство энергентности, которое не сводится к сумме составляющих ее частей, а представляет собой некое целое, не обладающее качествами ни одного из этих слагаемых. Потому эти составляющие имеют самостоятельные символические значения»

Развитие урбанистической темы в рок-поэзии определяется именно таким дуалистическим видением города. Во-первых, городской пейзаж — это серая зарисовка, передающая запустение, разорение, распавшуюся связь времен. Он состоит из трамвайных рельсов, шпал, светофоров, фонарей, клеток... Это — урбанизированный, милитаристский пейзаж, мир, населенный неодушевленностью, и даже живое сравнимо в нем с мертвым:
За спиной остался город из стекла и камней
Фантастических узоры бесконечных огней
(Пикник. «Пикник»).
Где-то между камней город лежит в тисках
(Пикник. «Истерика»).
Город для лирического героя становится каменными джунглями. Он представляется рок-поэтам чем-то чужим, опасным, жестоким, злым. Возникает образ войны, агрессии:
В этом городе цвет и свет фонарей,
Всё готовит на подвиг, на войну
(Пикник. «Истерика»).

Моя земля просит воды,
Мой город переполнен и зол,
как сжатый кулак
(К. Кинчев. «Ветер перемен»).
Лирический субъект рок-поэзии — дитя города, но душа его интуитивно тянется к «живой природе». Если в традиционной лирике принято противопоставлять хищной технике бедную природу, то в рок-поэзии мы не находим ни восхищения мощью техники, ни культового отношения к природе. Для поэтов и то и другое — составные элементы культуры, части единого целого.
Довольно чётко прослеживается в творчестве рок-музыкантов мотив опустошенности, бездушия города:
Нагие поезда, пустые города
Пришедшие, увы, в упадок навсегда!
(Б. Гребенщиков. «15 голых баб»).
Я знаю, что здесь пройдет моя жизнь,
жизнь в стеклах витрин
(В. Цой. «Жизнь в стеклах»).
жизнь в стеклах витрин
(В. Цой. «Жизнь в стеклах»).
Можно также предположить, что стекло связано с мотивом открытости, незащищённости — вся жизнь проходит на виду, но жители города не обращают друг на друга внимание, следуя мимо, как мимо витрин, к которым уже привыкли.
Второй лик города — иной, узнаваемый, близкий мир, в котором герой чувствует себя свободно и естественно, поэтому закономерно звучит признание:
Темные улицы тянут меня как магнит,
я люблю этот город, как женщину-ночь
(В. Цой. «Жизнь в стеклах»).
я люблю этот город, как женщину-ночь
(В. Цой. «Жизнь в стеклах»).
Город приравнивается к близкому человеку, и это придает особую, интимную связь города с лирическим героем.
Рок-барда А. Башлачев лишь последние три года жизни связывают с Петербургом, но в его стихах отражено удивительно гармоничное слияние судьбы города и судьбы лирического героя:
Мой друг, сними штаны
И голым Летним садом
Прими свою вину под
розгами дождя.
И голым Летним садом
Прими свою вину под
розгами дождя.
Здесь употребление слова «город»осуществляется опосредованно, на уровне ассоциаций, в частности — через использование упоминание Летнего сада. (Интересно, что это словосочетание служит в то же время средством языковой игры на уровне созвучия: «голым Летним садом», которая становится очевидной в соседстве с словами «вина» и «розги».)

Город может приобретать дополнительное значение «жизнь»:
Скажи, кукушка, пропой
В городе мне жить или на выселках
Камнем лежать или гореть звездой
(В. Цой. «Кукушка»).
В этом контексте, «город» и «выселки» (= кладбище) противопоставляются как «жизнь» и «смерть».
Образ города может конкретизироваться. Это проявляется в частотном употреблении в текстах Петербурга. Почему именно этот город привлекает внимание рок-поэтов? В.Н. Топоров отмечает что «и призрачный миражный Петербург (фантастический вымысел, сонная греза), и его (или о нем) текст, своего рода «греза о грезе», тем не менее принадлежат к числу тех сверхнасыщенных реальностей, которые немыслимы без стоящего за ними целого и, следовательно, уже неотделимы от мифа и всей сферы символического».
Особое значение для духовно-культурной сферы имеют мифы и предания, пророчества, литературные произведения и памятники искусств, фигуры петербургской истории и литературные персонажи, все варианты очеловечивания города. С формальной точки зрения, петербургскому тексту присуще широкое применение приемов гротеска, гиперболизации, фантастического и иронического описания быта, овеществление живого.
Среди типов петербургских мифов четко выделяется противопоставление: «божественное» — «дьявольское». В легенде, мифе о Петербурге город уподобляется живому существу, которое было вызвано к жизни роковыми силами, и столь же роковыми силами может быть низвергнуто в прародимый хаос. Петербургский текст и, соответственно, петербургский миф неотделимы от образа создателя города. «В народных преданиях Петр — антихрист, порождение Сатаны, подмененный царь. Город, основанный им, не русский (то есть не истинный, противоестественный) город, его удел — исчезнуть с лица земли. В письменной литературе, напротив, Петр — личность исключительная, герой, титан, полубог. «Город, основанный им, есть великое дело, которому суждено существовать в веках», — отмечает Л. Долгополов.

Немаловажное значение имеет тот факт, что и писатели, и поэты настойчиво стремятся обозначить произведения, входящие в Петербургский цикл, именно как «петербургские». «Эпитет "петербургский" является своего рода элементом самоназвания петербургского текста („Медный всадник“ имеет подзаголовок „Петербургская повесть“, „Двойник“ — „Петербургская поэма“; „Петербургские повести“ Гоголя, рассказ Некрасова „Петербургские углы“ (сб. „Физиология Петербурга"), „Петербургская поэма“, цикл из двух стихотворений Блока (1907), „Петербургские дневники“ Гиппиус, „Петербургские строфы“ Мандельштама, „Петербургская повесть“ как название одной из частей „Поэмы без героя“ Ахматовой и т.д.). Спецификация „петербургский“ как бы задает некое жанровое единство многочисленных текстов русской литературы», — делает вывод В.Н. Топоров.
Среди параметров Петербургского текста В.Н. Топоров выделяет и особые ситуации: «Из соотношения противопоставленных частей внутри природы и культуры и возникают типично петербургские ситуации: с одной стороны, темно-призрачный хаос, в котором ничего с определенностью не видно, кроме мороков и размытости, предательского двоения, где сущее и не сущее меняются местами, притворяются одно другим, смешиваются, сливаются, поддразнивают наблюдателя (мираж, сновидение, призрак, тень, двойник, отражения в зеркалах, „петербургская чертовщина“ и под.), с другой стороны, светло-призрачный космос как идеальное единство природы и культуры, характеризующийся логичностью, гармоничностью, предельной ясностью, вплоть до ясновидения и провиденциальных откровений».
М. Тимашева пишет, что Ленинград стал центром отечественного рока, хотя «все начиналось в Москве», что «Ленинград выносил и молодежную культурную революцию», которая произошла «в тот момент, когда рок-культура осознала себя частью нашей культуры... Лирический герой, которого вырастил ленинградский рок, — герой исповедующийся, идущий от того, что принято называть внутренним миром личности».
Лирический герой, личность автора в текстах петербургских рок-композиций, подобно героям петербургских повестей Гоголя, предстают чаще всего как «жертва Петербурга», для которой характерна позиция страха, неуверенности, одиночества и бессилия.

Интересны попытки создать социологизированный городской пейзаж (Ю. Шевчук, А. Башлачев, И. Кормильцев), явно связанный с мировоззренческим комплексом рок-поэтов:
Сегодня город твой
стал праздничной открыткой,
классический союз
гвоздики и штыка,
Заштопаны тугой, суровой красной ниткой
все бреши твоего гнилого сюртука
(А. Башлачев. «Петербургская свадьба»).
То, что это именно Петербург, конкретизируется сочетанием: Классический союз гвоздики и штыка, — указывающим на всем известный факт, что Ленинград — город трех революций. Такая ассоциация передаётся через употребление символов «гвоздика» («революционный» цветок) и «штык» (военные асоциации). Дух Петербурга вообще и его архитектура в частности глубоко дуалистичны: это и революционное советское настоящее в жизни А. Башлачёва (Заштопаны тугой, суровой красной ниткой — символика цвета связана с реалиями советского времени), и имперское прошлое (Все бреши твоего гнилого сюртука.
У Ю. Шевчука находим:
Эй, Ленинград, Петербург, Петроградище!
Марсово пастбище, Зимнее кладбище,
Отпрыск России, на мать не похожий,
Бледный, худой, евроглазый прохожий...
(Ю. Шевчук. «Ленинград»).
Марсово пастбище, Зимнее кладбище,
Отпрыск России, на мать не похожий,
Бледный, худой, евроглазый прохожий...
(Ю. Шевчук. «Ленинград»).
Здесь, наряду с ироническим перечислением искажённых, трансформированных названий (Марсово поле — Марсово пастбище; Зимний дворец — Зимнее кладбище), происходит персонификация города, а междометие «эй» придает довольно фамильярную манеру общения между человеком и Петербургом. Интересна градация в названиях одного и того же города: Ленинград становится в итоге Петроградищем, что говорит о масштабности и величии этого удивительного города.
У Б. Гребенщикова Петербург предстает как «вечный город», подобный Риму и Вавилону, но от этого не менее чужой человеку. Для этого автора, в отличие от Шевчука и Башлачева, Петербург воплощает, прежде всего, символ Дома как сакрального пространства, но Дома погибающего. Общий мотив «пустого дома» объединяет несколько гребенщиковских композиций («Пески Петербурга», «Вавилон», «Молодые львы»):
Но пески Петербурга заносят нас,
Всех
По эту сторону стекла
(Б. Гребенщиков. «Пески Петербурга»).
В этом городе должен быть кто-то еще.
В этом городе должен быть кто-то живой.
Я знаю, что когда я увижу его,
Я не узнаю его в лицо.
Но я рад: в этом городе
Есть еще кто-то живой
(Б. Гребенщиков. «Вавилон»).
Всех
По эту сторону стекла
(Б. Гребенщиков. «Пески Петербурга»).
В этом городе должен быть кто-то еще.
В этом городе должен быть кто-то живой.
Я знаю, что когда я увижу его,
Я не узнаю его в лицо.
Но я рад: в этом городе
Есть еще кто-то живой
(Б. Гребенщиков. «Вавилон»).
Следует сказать, что рок-поэты по-разному могут относиться к Петербургу: любить, боготворить его либо проклинать и ненавидеть. Но в рок-текстах он всегда олицетворяется — это всегда живое существо, которое может либо поглотить, свести с ума лирического героя, либо дать ему надежду, и научить его любить:
Мой бедный друг, из глубины твоей души
Стучит копытом сердце Петербурга
(А. Башлачев. «Петербургская свадьба»).
Стучит копытом сердце Петербурга
(А. Башлачев. «Петербургская свадьба»).
Таким образом, можем предположить, что Петербург не только теперь, но и во все времена манил поэтов своей мистической загадочностью, историей возникновения, величием и магической красотой.
Продолжает символику пространства образ пути (дороги), который напрямую связан с понятием хронотопа. У М.М. Бахтина мы находим следующее: «Хронотоп дороги обладает широким объемом, но несколько меньшей эмоционально-ценностной интенсивностью. Встречи в романе обычно происходят на дороге. Дорога — преимущественное место случайных встреч. На дороге («большой дороге») пересекаются в одной временной и пространственной точке пространственные и временные пути много различнейших людей — представителей всех сословий, состояний, вероисповеданий, национальностей, возрастов. Здесь могут случайно встретиться те, кто нормально разъединен социальной иерархией и пространственной далью, здесь могут возникнуть любые контрасты, столкнуться и переплестись различные судьбы. Здесь своеобразно сочетаются пространственные и временные ряды человеческих судеб и жизней, осложняясь и конкретизуясь социальными дистанциями, которые здесь преодолеваются. Это точка завязывания и место совершения событий. Здесь время как бы вливается в пространство и течет по нему (образуя дороги), отсюда и такая богатая метафоризация пути-дороги: «жизненный путь», «вступить на новую дорогу», «исторический путь» и проч.; метафоризация дороги разнообразна и многопланова, но основной стержень — течение времени.
Путь поколения — это путь максимализма: «Нет смысла идти, если главное — не упасть» (А.Башлачев). Возникает противопоставление героя окружающей среде, трагический мотив разобщенности, несовместимости и раздвоенности. У каждого есть выбор: иметь теплый дом, обед и свою доказанную верную теорему или искать, двигаться по лужам вперед сквозь черную неизвестность ночи:
Дорогу выбрал каждый из нас, Я тоже брал по себе
(К.Кинчев. «Новая кровь»).
(К.Кинчев. «Новая кровь»).
Путь, который предстоит пройти, неизведан и опасен, в интерпретации В. Цоя, К. Кинчева, Б. Гребенщикова он приобретает романтические черты:
Нас вели поводыри-облака
За ступенью ступень, как над пропастью мост,
Порою нас швыряло на дно,
Порой поднимало до самых звезд
(К.Кинчев).
За ступенью ступень, как над пропастью мост,
Порою нас швыряло на дно,
Порой поднимало до самых звезд
(К.Кинчев).
Этот мотив опасного пути как и мотив «единения» принят рок-поэтами от бардов-шестидесятников, однако масштабы движения несоизмеримы с идеей пути предыдущего поколения. А. Макаревич прямо связывает пути шестидесятников и рок-поколения:
Но выйди за дверь:
как много вокруг забытых дорог
(А. Макаревич. «В добрый час»).
как много вокруг забытых дорог
(А. Макаревич. «В добрый час»).
Герой отправляется на поиски гармонии с окружающим миром. Такой путь не только романтичен, но и овеян ореолом святости (появляется символика Звезды):
Но высокая в небе звезда
зовет меня в путь
(В. Цой. «Группа крови»).
зовет меня в путь
(В. Цой. «Группа крови»).
В другом случае: ...я стоял и смотрел, как горит звезда / Того, кто ушел в свой путь (Б. Гребенщиков. «Уйдёшь своим путём») — путь имеет совершенно другую символику. Это путь в вечность, за пределами жизни.

Непосредственно с дорогой связан перекрёсток. В словаре символов говорится: «Символ выбора, но вместе с тем и единства противоположностей; место встречи времени и пространства; магическое и опасное место, где встречаются демоны и ведьмы. Самоубийц, вампиров и злодеев хоронили на перекрестках, чтобы они заблудились и не смогли вернуться для преследования живых. Посвящен Гекате, которой приносились в жертву собаки на перекрестках. Ассоциируется также с Ганешей и Янусом».
Рок-поэзии присущ космизм. Она пронизана ощущением пространства, расширяющегося до масштабов Вселенной («образ, открытый миру»). Но все это не самоцель для рок-поэтов, а напряженный духовный поиск, осмысление себя во Вселенной, места человека в мире. Перекрёсток у рок-поэтов связан с выбором, как отличить добро и зло, куда направить свой жизненный путь:
Вечный мой перекрёсток, где минус, где плюс?
Когда уходит любовь, остаётся блюз...
(Чиж. «Перекрёсток»).
Когда уходит любовь, остаётся блюз...
(Чиж. «Перекрёсток»).
В рок-поэзии перекрестку часто приписываются черты человека:
Но вот опять притаился у ног перекрёсток, будто пыльный цветок
Он запомнил все наши шаги
Он отпустил меня, мы ведь с ним не враги
(Пикник. «Пикник»).
Он запомнил все наши шаги
Он отпустил меня, мы ведь с ним не враги
(Пикник. «Пикник»).
Этот символ содержит в себе мистическую силу, неподвластную человеку.
Другой символ, связанный с образом пути — поезд. Ещё у Пастернака встречается образ поезда. Поезд представлен как посланец из иной реальности — не случайно нагнетается трагическая «потусторонняя» атмосфера. У Есенина, в стихотворении «Сорокоуст» противопоставляется хищной железной технике — поезду, природа, в лице жеребенка, пытающегося обогнать «железного коня»:

видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунный поезд?
Наследники традиций Пастернака, Есенина, поэты, передающие реальность через свое обостренное восприятие, тоже нередко обращаются к образу поезда. Наиболее значительные из авторов, которых можно назвать рок-поэтами, неоднократно писали о поезде в мир иной, даже поезде-вестнике смерти. Другое дело, что меняется само отношение к смерти, которая не пугает, а становится обителью желанного отдохновения. Например, Б. Гребенщиков, пройдя богатейшую практику самосозерцания, обрел настолько прочную уверенность в наличии запредельного бытия, что может позволить себе ироничную игру с некротической символикой, например, в «Дне радости» («Письма капитана Воронина», 1992 г.):
Мы въехали в тоннель,
А в конце стоит крест.
А в топке паровоза ждет дед Семен;
Он выползет и всех нас съест.
Так отпустите поезда,
Дайте машинисту стакан...
(Б. Гребенщиков. «День радости»)
А в конце стоит крест.
А в топке паровоза ждет дед Семен;
Он выползет и всех нас съест.
Так отпустите поезда,
Дайте машинисту стакан...
(Б. Гребенщиков. «День радости»)
Игра не кажется кощунственной — это своего рода психологическая разрядка после тяжелых духовных испытаний. Смерть для лирического героя — чудесный мир, где все иначе и куда можно попасть лишь по некоей астральной железной дороге. В «Великой железнодорожной симфонии» Б. Гребенщиков представляет земную реальность не более как декорацией, ему чужд восторг. Пространство изначально очень неопределенно, действие полностью перенесено в другие сферы. Из текста удалено все, что хоть отдаленно напоминает о материальности, даже рельсы подвержены распаду:
Паровоз твой мчит по кругу,
Рельсы тают, как во сне —
Машинист и сам не знает,
Что везет тебя ко мне
(Б.Гребенщиков. «Великая железнодорожная симфония»).
Рельсы тают, как во сне —
Машинист и сам не знает,
Что везет тебя ко мне
(Б.Гребенщиков. «Великая железнодорожная симфония»).
Или у А. Макаревича в тексте «Вагонные споры», пассажиры рассуждают о том, что такое жизнь. Один уподобляет её поезду, который все мчится куда-то: Один говорил: «Наша жизнь — это поезд», другой, что вся наша жизнь — это ожидание чего-либо: Другой говорил: «Перрон» (А. Макаревич. «Вагонные споры»). Небольшое по объёму произведение становится ярким примером вечной философской проблемы «В чём смысл жизни?»
Ближе всего к пастернаковскому слиянию поэта с поездом оказывается К. Кинчев — лидер группы «Алиса». Песни «Перекресток», «Камнепад», «Поезд» несут в себе элемент игры, которая нередко становится для его лирического героя спасительным укрытием. В этой мрачной игре можно различить два уровня. Первый — это манипулирование атрибутами культуры и субкультуры, вводящее то в асоциальность, то в язычество, то и вовсе в сатанизм, не всерьез, а просто поэт «доигрался». Второй слой — это «театр для себя», в котором нет и не может быть зрителей, а персонажи — только маски, которые беспрестанно меняет хозяин. Их великое множество — и, заплутав в чужих обличиях, автор обнаруживает, что собственное лицо потеряно. В этом втором слое он уже не идет напролом, но и не плывет по течению, а нащупывает некий путь «поперек». В произведениях на эту тему звучат и символические, и импрессионистические мотивы. Автор не может найти себя. Когда поэт не стыкуется с привычным миром, и возникает образ упущенного поезда:
Но я был не прав
это странно.
Кто-то успел —
ну и ладно.
Я опоздал, или поезд потерял вокзал,
или я все давно забыл...
(К. Кинчев. «Перекресток»).
это странно.
Кто-то успел —
ну и ладно.
Я опоздал, или поезд потерял вокзал,
или я все давно забыл...
(К. Кинчев. «Перекресток»).
То есть этот отсутствующий поезд мыслится примерно такими же символами «союзник» и «спаситель», как у Пастернака, и смыслом «обреченность» — от опоздания на него. Схожая ситуация отслеживается и в «Камнепаде»:
Одинокий вагон,
Молчаливый вокзал,
Утонувший в дожде перрон.
Я, кажется, опоздал...
(К. Кинчев. «Камнепад»)
Молчаливый вокзал,
Утонувший в дожде перрон.
Я, кажется, опоздал...
(К. Кинчев. «Камнепад»)
Мучительные блуждания героя, казалось бы, завершаются в стихотворении «Поезд». Однако поезд, который должен привести к более гармоничному бытию, идет не туда:
Мой поезд идет не туда,
Куда отправили его,
Но я не нажму на тормоза
И даже не прикрою окно...
Герой предпочел дорогу цели:
Я выбрал звуки вместо нот,
Я заменил огонь на дым...
И я не знаю свой маршрут,
Хотя дорогу правил я...
(К. Кинчев. «Поезд»)
Куда отправили его,
Но я не нажму на тормоза
И даже не прикрою окно...
Герой предпочел дорогу цели:
Я выбрал звуки вместо нот,
Я заменил огонь на дым...
И я не знаю свой маршрут,
Хотя дорогу правил я...
(К. Кинчев. «Поезд»)
Поезд «двинулся» в направлении, противоположном Пастернаку, у которого он появлялся как впечатление и перерастал в символ. В рок-поэзии, как видим, он обычно уже предстает символическим странником.
II. Символика, связанная с состоянием человека, прежде всего, свобода и смерть
Для поэта такие понятия, как свобода, воля, являются определяющими во всём творчестве. Некоторые поэты на протяжении всей жизнь борются за возможность быть свободным: Где моя сила, моя любовь, моя свобода, / Какой, какой за мной грех? (Пикник. «Истерика») Но традиционное стремление к идеальному, запредельному в мироощущении рок-поэтов сталкивается с внешними ограничителями: от назойливых бытовых проблем до гротескно «больного мира», подавляющего и уничтожающего героя, не дающего ему реализоваться во всей полноте своих чувств и устремлений. Поэтому Небо обращается в запертую клеть (Б. Гребенщиков. «500»). Часто лирический герой обретает свободу слишком дорогой ценой, пройдя через разрушения и потери:
Туда, где разбиваются мечты,
В дворцах обломков есть свой шарм.
И мы легки, светлы, нежны
Летим по небу чуть дыша.
Теперь свободны от потерь,
Теперь щемящий сердце звук,
Как песни, что писал тебе,
Но подарил оставшимся внизу
(Лапландия. «Туда, где разбиваются мечты»).
В дворцах обломков есть свой шарм.
И мы легки, светлы, нежны
Летим по небу чуть дыша.
Теперь свободны от потерь,
Теперь щемящий сердце звук,
Как песни, что писал тебе,
Но подарил оставшимся внизу
(Лапландия. «Туда, где разбиваются мечты»).

В рок-поэзии часто встречается символика смерти. Смерть касается всего, что развивается во времени: обществ, культурных систем, предметов, людей. Смерть многолика — даже если говорить о смерти как об исключительно человеческом качестве, то можно выделить смерть физическую (разрушение тела), биологическую (остановка жизненно важных функций организма), психическую (сумасшествие), социальную (уход из активной общественной и практической деятельности). Поэтому образ смерти — одно из самых устойчивых символов представлений, настроений, эмоций, изучение которого позволяет выявить определенные закономерности и тенденции в формировании жизненных установок и моделей поведения. Обычно вопрос об отношении человека к смерти связывают с чувством страха, тревожного ожидания: Только мертвый не боится смерти (Сплин. «Пластмассовая жизнь»).
Большой интерес ко всему «загробному» проявляет группа «Агата Кристи». Это связано с эстетической («декадансной») позицией этой группы. Для них «смерть» = «счастье». Часто лирический герой обретает душевное спокойствие только после физической смерти:
Отличная ночь для смерти и зла
(Агата Кристи. «Трансильвания»).
Ты будешь мертвая принцесса,
А я твой верный пес
(Агата Кристи. «Опиум для никого»).
III. Символика, связанная с природными явлениями
Здесь можно выделить несколько подгрупп символов.
К первой подгруппе — «Небесные светила» — относятся небо, солнце, луна, звезда.

Небо в словаре символов «означает трансцендентность, бесконечность, высоту, царство блаженства, высшую власть, порядок во Вселенной. Боги Неба — это, обычно, Творцы. Они всемогущи и всеведущи и символизируют космические ритмы. Это стражи Закона. При матриархате небесные божества обычно женского пола, иногда боги Неба бывают бесполыми. В индуистской символике Небо — это сито, через которое выдавливается сок Сомы, падающий в виде дождя, оплодотворяющего земли и сопровождающийся громом и молнией Небо и земля олицетворяют дух и материю и, как правило, отцовское и материнское начала, за исключением символизма Египта, Океании а также тевтонской символики, где ситуация противоположная. В ритуальной архитектуре изображаются сводом, ступой, чортеном, либо центральным отверстием в шатре, навесе и сакральной постройке Повсеместно они изображаются синим цветом, но иногда черным На Дальнем Востоке символизируются драконом, а земля — белым тигром, а также дымкой и горой, конем и быком».
Путь искания сложен и драматичен для лирического героя. Прежде чем обрести мистическое зрение, он должен пройти испытание на прочность. И в этом плане для современной рок-поэзии традиционен романтический мотив порогового состояния личности, отражающий глубинный духовный конфликт героя, находящегося между небом и землей, твердью и бездной, жизнью и смертью: Слева небеса, справа пустота,/ А я иду по проволоке между них (Б. Гребенщиков. «Обещанный день»).
Небо в рок-текстах, как правило, имеет значение «высшая сила, которая либо хранит лирического героя»:
А поверх седых облаков
Синь соколиная высь.
Здесь, под покровом небес
Мы родились
(К. Кинчев. «Небо славян»).
Синь соколиная высь.
Здесь, под покровом небес
Мы родились
(К. Кинчев. «Небо славян»).
Либо оказывается безжалостным к нему:
Небо нас не слышит,
Небо нам не внемлет
(Сплин. «Иди через лес»).
Небо нам не внемлет
(Сплин. «Иди через лес»).

Слово «солнце» в словаре-символов означает: «символ высшей космической силы Всевидящее божество и его власть, неподвижное существо, сердце космоса, центр бытия и интуитивного знания, разум мира (макробиус), просветление, глаз мира и глаз дня, непокоренный, слава, величие, правосудие, царственность Это видимый образ Божественной Благодати, , трансцендентный архетип Света (Дионисий) Нет ничего доступного взору во всем мире, что было бы более достойно служить символом Бога, нежели , которое проливает свет видимой жизни сначала на себя, а затем и на все небесные и земные тела (Данте)».
Солнце — это, как правило, идеальная звезда, которая не только светит, но и греет:
Как многое видят глаза, но
Помнит лишь Солнце, Солнце одно
Солнце одно: нет берегов, нет берегов
(Пикник. «Нет берегов»).
Помнит лишь Солнце, Солнце одно
Солнце одно: нет берегов, нет берегов
(Пикник. «Нет берегов»).
Солнце это звезда, но звезда уникальная, единственная, видящая всех и всё, и повторяющаяся лексема одно подчеркивает его уникальность:
Городу две тысячи лет
Прожитых под светом звезды по имени Солнце
(В. Цой «Звезда по имени Солнце»).
Прожитых под светом звезды по имени Солнце
(В. Цой «Звезда по имени Солнце»).
Стоит сказать, что у В. Цоя это один из самых любимых символов. Солнце отсчитывает дни, решает все:
Красное солнце сгорает дотла,
День догорает с ним
(В. Цой. «Перемен»).
День догорает с ним
(В. Цой. «Перемен»).
Часто солнце становится холодным и безжалостным:
Беспощадно в небе светит солнце
У тебя над головой
(А. Васильев. «Пластмассовая жизнь»).
Как немая струна
Для чужих не поет
Ни твоё, ни моё
Снова солнце встаёт
(Пикник. «Ни твоё ни моё»).
У тебя над головой
(А. Васильев. «Пластмассовая жизнь»).
Как немая струна
Для чужих не поет
Ни твоё, ни моё
Снова солнце встаёт
(Пикник. «Ни твоё ни моё»).

Луна же «как правило, олицетворяет женскую силу, Мать-Богиню, Царицу Небесную. Исключением являются некоторые африканские и североамериканские индейские племена, а также тевтоны, племена Океании, маори и Япония, где является мужским производительным принципом повсеместно является символом циклического ритма времени, универсального становления. Фазы зарождения, исчезновения и появления Луны на небосводе символизируют бессмертие и вечность, постоянное обновление, просвещение. Кроме того, олицетворяет темную сторону природы, ее невидимый аспект; духовный аспект света во тьме; внутреннее знание, интуитивное, иррациональное и субъективное; человеческий разум в виде отраженного света боже-ственного Солнца. Является символом глаза ночного, а Солнце является глазом дневным символизирует также периодическое возобновление творения, время и меру. Раньше время измерялось фазами Луны, поэтому она считалась носителем перемен, страдания и упадка, условием жизни человека на земле. Изменяясь в своих фазах, она символизирует область становления. Камы управляет приливами, дождями, водами, наводнениями и временами года, а следовательно, и ходом жизни».
В рок-поэзии луна персонифицируется, она является носителем женского начала:
Луна — я её ждал
И любил, как невесту
(Мельница. «На север»).
На небе ухмыляется луна
(Агата Кристи. «Черная луна»).
Право маркиза, что за Луна
Ленива, капризна и холодна
(Агата Кристи. «Абордаж»).
И любил, как невесту
(Мельница. «На север»).
На небе ухмыляется луна
(Агата Кристи. «Черная луна»).
Право маркиза, что за Луна
Ленива, капризна и холодна
(Агата Кристи. «Абордаж»).
Луна может выступать символом высшей силы:
Здесь луна решает, какой,
Какой звезде сегодня упасть
(Пикник. «Истерика»).
Какой звезде сегодня упасть
(Пикник. «Истерика»).

«Звезда» в словаре символов означает присутствие божества, верховенство, вечное и неумирающее, высшее достижение, ангела — посланца Бога, надежду (сияющую во тьме), глаза ночи. Звезды — атрибуты Небесных Цариц, у которых короны часто состоят из звезд. Утренняя или вечерняя звезда является символом преимущественно Иштар, или Венеры. Полярная звезда обозначает точку на небе, вокруг которой в ночное время вращается небосвод и, соответственно, Небесные Врата. В индуистских брачных ритуалах звезда — символ постоянства. В Египте фараон после смерти идентифицировался с Полярной звездой. Четырехлучевая звезда (позднее Мальтийский крест) — это древняя форма Шамаша как солнечного бога любви и правосудия Пятиконечная звезда, обращенная вверх, символизирует вдохновение, свет, духовное образование; пятиконечная звезда, обращенная вниз, — зло, колдовство, черную магию. Шестилучевая звезда — знак Творения и Печать Соломона. Это комбинация мужского и женского треугольников, а также огня и воды. Восьмилучевая звезда в круге — неиконический образ Гулы, супруги Шамаша. У ацтеков утренняя звезда — это восходящая, духовная, мужская сила Солнца, а вечерняя звезда — нисходящая, земная, женская сила Луны. У китайцев звезда, или звезды, с Солнцем и Луной означают духовную мудрость правителей. В христианстве звезда олицетворяет божественное водительство и благорасположение, рождение Христа. Дева Мария, как Царица Небесная, носит корону из звезд, так же, как и Стелла Марис Двенадцать звездской мифологии зеркало — атрибут Тецкатлипока. Это сияющее или дымящееся зеркало имеет солярное и лунное значение, как атрибуты солнечного бога Лета и лунного бога Вечера. В даосизме зеркало символизирует самореализацию. При рассмотрении человеком своей природы зло уничтожается, увидев свое ужасное отражение: Зло разрушается, когда узнает себя Зеркало символизирует, кроме того, ум мудреца: Ум мудреца, находясь в покое, становится зеркалом вселенной (Чуанг Цу) В семитской традиции (в хиттитском искусстве) зеркало символизирует женское божество, в то время как гроздь винограда — мужское.
Символ звезды — это особенный образ. Звезда в рок-поэзии является живым существом:
Звезды пьяные смотрят вниз
И в дебри сказочной тайги
Падают они
(Агата Кристи. «Сказочная тайга»).
Но высокая в небе звезда
Зовет меня в путь
(В. Цой. «Группа крови»).
И в дебри сказочной тайги
Падают они
(Агата Кристи. «Сказочная тайга»).
Но высокая в небе звезда
Зовет меня в путь
(В. Цой. «Группа крови»).
Звезды — это, как правило, некоторая высокая, недостижимая цель, часто не до конца определенная самим автором (возможно, именно поэтому родился этот символ):
За звезду полжизни
За луну свободу
Я целую небо
А оно льет воду
(Смысловые галлюцинации. «Звезды 3000»).
И звезды светят мне красиво
И симпатичен ад
(Агата Кристи «Опиум для никого»).
За луну свободу
Я целую небо
А оно льет воду
(Смысловые галлюцинации. «Звезды 3000»).
И звезды светят мне красиво
И симпатичен ад
(Агата Кристи «Опиум для никого»).
Для лирического героя звезда часто становится путеводной и светит только для него:
Он смотрел на следы её, жаждал воды её,
Шел далеко в свете звезды её
(Б. Гребенщиков. «Почему не падает небо»).
Шел далеко в свете звезды её
(Б. Гребенщиков. «Почему не падает небо»).
Ко второй подгруппе — «Природные стихии» — относятся ветер и огонь.

В Словаре символов ветер «символизирует дух, живое дыхание вселенной, силу духа в поддержании жизни и объединении всего живого, в связи с чем возникла ассоциация ветра с веревками, нитями и т. п. Веревка ветра, Нить то же, что и ветер (Упанишады) олицетворяет нечто неосязаемое, преходящее, бестелесное и неуловимое Ветры как посланцы богов, а особенно вихри(см-), могут указывать на присутствие божества вместе с огнем символизируют богов гор и вулканов. В китайской медицине метод нахождения благоприятных точек для иглоукалывания называется фэншуй (ветер и воды) Четыре Ветра Эола, обычно изображаются в виде детей, детских голов, появляющихся из-за облаков, или безбородых мужчин, дующих или трубящих в рог иногда символизируется крыльями или опахалом Эол — бог ветров и всех музыкальных инструментов, издающих звуки с помощью движения воздуха».
В рок-поэзии, например, у В. Цоя символ «ветер» воплощает творческую силу как противоположность обывательскому застою, нравственной смерти:
Я слышу, как ветер поет свою страшную песню,
Я слышу, как струны деревьев играют
Музыку волн, музыку ветра...
(В. Цой «Музыка волн»).
Я слышу, как струны деревьев играют
Музыку волн, музыку ветра...
(В. Цой «Музыка волн»).
В лирической ветви рок-поэзии одним из излюбленных приемов является прием уподобления. Сущность лирического субъекта выявляется через олицетворение:
Не бойся стука в окно — это ко мне,
Это северный ветер — мы у него в ладонях.
Но северный ветер — мой друг,
Он хранит то, что скрыто...> (Б. Гребенщиков. «Аделаида»).
Это северный ветер — мы у него в ладонях.
Но северный ветер — мой друг,
Он хранит то, что скрыто...> (Б. Гребенщиков. «Аделаида»).
Почему автор использует определение именно «северный ветер»? Можно предположить, что этот символ восходит еще к творчеству В. Шекспира. В одном из монологов, Гамлет говорит: «Я бываю безумным лишь, когда дует северо-западный и северный ветры; когда же дует южный, то я всегда сумею отличить ястреба от цапли» (В. Шекспир. «Гамлет»). Образ ветра наделяется особым символическим значением «сумасшествие».
Ветер может превращаться в странника:
Остался бездомный ветер,
Осенний звон погребльный
И лист — последний на свете
На черной дороге дальней
(А. Макаревич. «Когда поднимались травы»).
Как ко мне посватался ветер,
Бился в окна, в резные ставни
(Мельница «Ветер»).
Ветер свистит атональный мотив
Ветер назойлив, ветер игрив
Он целует меня, / Он кусает меня
(Агата Кристи «Нисхождение»).
Осенний звон погребльный
И лист — последний на свете
На черной дороге дальней
(А. Макаревич. «Когда поднимались травы»).
Как ко мне посватался ветер,
Бился в окна, в резные ставни
(Мельница «Ветер»).
Ветер свистит атональный мотив
Ветер назойлив, ветер игрив
Он целует меня, / Он кусает меня
(Агата Кристи «Нисхождение»).

Огонь, по словарю символов, «символизирует трансформацию, очищение, дающую жизнь производящую силу Солнца, обновление жизни, оплодотворение, силу, мощь, энергию, невидимую энергию в процессе осуществления, сексуальную силу, защиту, оборону, видимость, разрушение, слияние, страсть, мольбы, перемену одного состояния на другое, либо переход в него, способ передачи сообщений или приношений Небесам Пламя олицетворяет духовную силу, трансцендентность и озарение, свидетельствует о наличии божества или души, пневмы, вздоха жизни; воодушевление и просвещение Пламя на голове или вокруг нее, подобно нимбу, свидетельствует о божественной силе, потенции души или гении, поскольку голова рассматривается как место нашей жизненной души Пламя покидает тело в момент смерти и пламя — типичные символы сердца».
Огонь в рок-поэзии символизирует либо человеческую жизнь:
Каждый костер когда-то догорит...
(А. Макаревич «Костер»);
Только вечный огонь всё равно прогорит.
Пусть хорош этот сон. Только тоже не вечен
(А. Башлачев. «Слыша В.Высоцкого»),
(А. Макаревич «Костер»);
Только вечный огонь всё равно прогорит.
Пусть хорош этот сон. Только тоже не вечен
(А. Башлачев. «Слыша В.Высоцкого»),
— либо разрушительную, стихийную силу:
Он бросил в огонь всё, что было не жаль.
(Б. Гребенщиков. «Почему не падает небо»).
(Б. Гребенщиков. «Почему не падает небо»).
В этом случае огонь связан с очищением.
IV. Символика времени
Время в словаре символов характеризуется таким образом: «Символизирует творение и разрушение порождает все, что было, есть и будет (Бхагавад Гита) в своем движении уничтожает мир (Упанишады). Оно также олицетворяет отступление от истины и возврат к ее истокам. Это разрушительная сила и, в то же время, открыватель истины. Слова некогда, давным-давно символизирует Золотой Век гармонии и неограниченных возможностей Остановка времени — это прорыв к просветлению и вечности Черная Кали символизирует время пожирающее, безжалостного уничтожителя. Черные девушки символизируют неразделенное, prima materia, иррациональное, лунное, темное, женское начало времени. Символы времени — песочные и другие часы, серп, змея, вращающееся колесо, круг (как символ бесконечного цикла, но и как завершенности космоса), коса, жнец, который в то же время Кронос (Сатурн) как олицетворение времени Лунные животные и символы также ассоциируются со временем».

Образ времени в рок-текстах мыслится не как культурно-исторический контекст, но как категория объективная и независимая, основной источник драматических коллизий, определяющий сущность и характер человеческого бытия:
Летим сквозь времена, которые согнули
страну в бараний рог и пили из него
и мы с тобой хлебнули за совесть и за страх
(А. Башлачев. «Петербургская свадьба»).
страну в бараний рог и пили из него
и мы с тобой хлебнули за совесть и за страх
(А. Башлачев. «Петербургская свадьба»).
Переживание времени обусловило не только тематический поворот к истории, но и исторический подход к современности:
Я ждал это время, и вот, это время пришло.
Те, кто молчал, перестали молчать.
Те, кому нечего ждать, садятся в седло,
Их не догнать, уже не догнать
(В. Цой. «Спокойная ночь»).
Те, кто молчал, перестали молчать.
Те, кому нечего ждать, садятся в седло,
Их не догнать, уже не догнать
(В. Цой. «Спокойная ночь»).
Часто в рок-текстах образу времени приписываются черты человека, используется приём олицетворения. Оно является товарищем лирического героя:
Время, видишь,
Я горю, кто-то спутал.
И поджег меня.
Ариведерчи
(Земфира. «Ариведерчи»).
Я горю, кто-то спутал.
И поджег меня.
Ариведерчи
(Земфира. «Ариведерчи»).
Либо беспощадным, безжалостным судьёй:
Время не ждёт
И что-то не вышло
Глядя в свою телефонную книжку
Кого-то уже сто лет не слышно
(Чайф. «Время не ждёт»).
И что-то не вышло
Глядя в свою телефонную книжку
Кого-то уже сто лет не слышно
(Чайф. «Время не ждёт»).
Ночь в словаре символов имеет такую трактовку: «Как и темнота ночь означает докосмическую и предродовую тьму, предшествующую воз-рождению или инициации и просветлению. Это также хаос, смерть, безумие, разрушение, возвращение к утробному состоянию мира. Согласно Гесиоду, ночь — это Мать Богов, окутывающий материнский аспект женской силы Она обычно символизируется женской фигурой в усыпанной звездами вуали, держащей на одной руке черного ребенка (т.е. смерть), а на другой руке белого (т.е. сон). Кроме того, символами ночи являются нарождающаяся Луна, мак, сова или черные крылья, время всепожирающее День и ночь могут изображаться в виде черной и белой крысы. Идти под покровом ночи — означает тайное знание».
В рок-текстах день и ночь четко противопоставлены . Ночь в рок-поэзии приобретает традиционное значение «тёмные силы»:

Ночью по лесу идет сатана
И собирает свежие души
(Агата Кристи. «Сказочная тайга»).
Но я живу не видя дня
Во мраке бесконечной ночи.
И нет надежды у меня
В гробу смыкаю очи
(Король и Шут. «Вампир»).
Вместе с тем, лирический герой, чувствует своё родство с ночью, ведь только тогда раскрывается истинная сущность человека:
За окнами солнце, за окнами свет. Это день
Ну а я всегда любил ночь
И это моё дело — любить ночь
И это моё право — уйти в тень
(В. Цой. «Ночь»).
Ну а я всегда любил ночь
И это моё дело — любить ночь
И это моё право — уйти в тень
(В. Цой. «Ночь»).
В рок-поэзии ночь сильнее, могущественнее света:
Город стреляет в ночь дробью огней
Но ночь сильней, её власть велика
(В. Цой. «Спокойная ночь»).
Ни шагу назад, только вперед!
Это с тобою нас ночь зовет.
Куда полетим: вверх или вниз —
Это ответит нам наш карниз
(Ю. Шевчук. «Ни шагу назад»).
Но ночь сильней, её власть велика
(В. Цой. «Спокойная ночь»).
Ни шагу назад, только вперед!
Это с тобою нас ночь зовет.
Куда полетим: вверх или вниз —
Это ответит нам наш карниз
(Ю. Шевчук. «Ни шагу назад»).
День же, напротив, враждебен герою:
День вызывает меня на бой
(В. Цой. «Песня без слов»).
Поверь мне, с годами
Разлуки переносится легче
А ночи помнятся дольше
Чем однообразные дни
(Лапландия. «Песня для тебя»).
Утомленные днем
Мы боимся уснуть,
Наше время вдвоем —
Шесть тысяч секунд
(Лапландия. «Моя милая Гретхен»).
(В. Цой. «Песня без слов»).
Поверь мне, с годами
Разлуки переносится легче
А ночи помнятся дольше
Чем однообразные дни
(Лапландия. «Песня для тебя»).
Утомленные днем
Мы боимся уснуть,
Наше время вдвоем —
Шесть тысяч секунд
(Лапландия. «Моя милая Гретхен»).
Наделяются символикой и употребление слов, обозначающих времена года. И осень и весна символизируют какие-либо перемены. Осень, как правило, в рок-поэзии символизирует умирание природы:
Остался бездомный ветер,
Осенний звон погребальный
И лист — последний на свете
На черной дороге дальней
(А.Макаревич «Когда поднимались травы»).
Осенний звон погребальный
И лист — последний на свете
На черной дороге дальней
(А.Макаревич «Когда поднимались травы»).
Прилагательное «осенний» становится синонимом «погребального», что символизирует смерть.
Её зовут Настя, она пишет стихи, живет на реке,
Она верит в то, что осень пройдет
(Чиж. «Нечего терять»).
Она верит в то, что осень пройдет
(Чиж. «Нечего терять»).

Это слово может даже приобретать значение «отвращение»:
В городе старый порядок!
В городе старый порядок!
Осень!
Который день идет дождь.
Время червей и жаб!
Время червей и жаб!
Слизь!
(К. Кинчев. «Время менять имена»).
Весна же, напротив, символизирует пробуждение к новой жизни:
Просто дожить до весны,
Увидеть тающий снег,
Господи, дай нам сил
выдержать ещё две недели
(Лапландия. «Улетай»).
Спи! Ты отыщешь у этой весны
Возможность дышать и петь
(Лапландия. «Завтра будет хороший день»).
Увидеть тающий снег,
Господи, дай нам сил
выдержать ещё две недели
(Лапландия. «Улетай»).
Спи! Ты отыщешь у этой весны
Возможность дышать и петь
(Лапландия. «Завтра будет хороший день»).
V. Символика, связанная с характеристикой человека
Глубокие философские размышления над смыслом бытия разворачи-ваются поэтически как контрастирующие параллелизмы. Добро противопоставлено злу, душевный покой — смятению, философская радость бытия — неверию и отчаянию. И, наконец, за диалектикой добра и зла проступает еще одна грань безрассудства героев рок-поэзии — абсурдность любого конфликта перед лицом Вечности: Слишком короток век — не прошел бы за спорами весь (А. Макаревич. «Слишком короток век»).
Рок-поэты смысл жизни видят в том, чтобы противостоять злу. Окружение лирических героев часто недоброжелательно, враждебно. Это и реальные злость, зависть, мистические флюиды и символическое одиночество Звезды в космическом просторе:
А мы обречены на реальность,
На зло и неверие в бога,
На тайную веру в крещенье,
На страшные беды войны
(Лапландия. «А лекарь разводит руками»).
На зло и неверие в бога,
На тайную веру в крещенье,
На страшные беды войны
(Лапландия. «А лекарь разводит руками»).
Диалектика Добра и Зла развивается в идею духовной борьбы (войны), как проявление движения. Лирический субъект уходит на войну, на войну между «землей и небом» человеческого духа. Она происходит в нем самом, она происходит в каждом человеке. У каждого есть выбор: иметь теплый дом, обед и свою доказанную верную теорему или искать, двигаться по лужам вперед сквозь черную неизвестность ночи:
Вправо и влево толкая веслом,
Движемся мы
В старой лодке по воле теченья —
Вот и арена,
Где зло будет биться со злом
(А. Макаревич. «Воды нашей реки»).
Движемся мы
В старой лодке по воле теченья —
Вот и арена,
Где зло будет биться со злом
(А. Макаревич. «Воды нашей реки»).
Сердце в Словаре символов трактуется следующим образом: «центр существа, как физический, так и духовный, божественное присутст-вие в центре олицетворяет центральную мудрость, мудрость чувства в противовес рассудочной мудрости головы. Оба способа разумны, но сердце — это еще и сострадание, понимание, место тайное, любовь, милостыня. Оно содержит кровь, то есть жизнь символизируется Солнцем, как центр жизни. Сияющее Солнце и пылающее сердце являются символами центров макрокосма и микрокосма, означая человека и Небеса, трансцендентное разумение также часто изображают треугольником, опирающимся на вершину. У ацтеков сердце — центр человека, религии и любви, объединяющий жизненный принцип. Принесение сердца в жертву символизировало высвобождение крови, то есть жизни, посев жизни, чтобы она зародилась и расцвела. Пронзенное сердце означает покаяние. В буддизме сердце — суть природы Будды Алмазное — это чистота и несокрушимость; человек, которого ничто не может повредить, вывести из равновесия. В китайском буддизме сердце является одним из Восьми Драгоценных Органов Будды. У кельтов Доброе сердце символизирует благородство и сострадание; является антитезой дурному глазу. У христиан сердце — любовь, понимание, смелость, радость и печаль. Пылающее сердце означает религиозное рвение и приверженность вере в руке символизирует любовь и благочестие; сердце, пронзенное стрелой, — это сокрушенное, покаявшееся сердце».
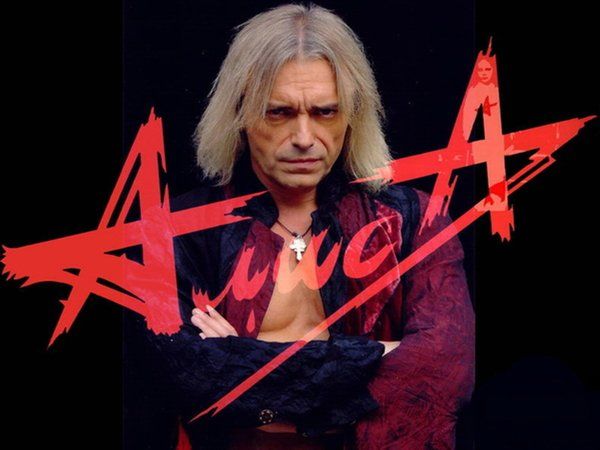
Сердце, или душа (практически всегда эти слова выступают синонимами) в рок-поэзии встречаются очень часто. Причем, как правило, сердце у поэтов разбито, покорежено, растоптано:
Разбили рожу мою хмельную?
Убейте душу мою больную!
(А. Башлачев. «Ванюша»)
Душа — это птица. Её едят.
Мою жевали почти тридцать лет
(К. Кинчев. «Новая кровь»).
Нередко проводится параллель «душа — птица». Птица всегда была символом свободы, вольности. Но в данном контексте птица — это мясо, которое употребляют в пищу. Этой еде уподобляется и душа лирического героя.
Сердце становится у рок-поэтов самым главным, самым важным. Оно всегда выдвигается на первый план, только по зову сердца поэты живут, любят, страдают:
Пока крапивою выстлан путь,
Пока в разорванном сердце
Ждешь новых рубцов,
Ты на коне!
(К. Кинчев «Солнце за нас»).
Пока в разорванном сердце
Ждешь новых рубцов,
Ты на коне!
(К. Кинчев «Солнце за нас»).
Вместе с тем, душа, или сердце, приобретают оттенок значения «что-то очень тонкое и нежное»:
Душа поэта требует тепла,
Душа боится верить в неизбежность,
Теперь ты знаешь, что такое смерть —
Сияй, мой сумасшедший бриллиант!
(Лапландия. «Сумасшедший Бриллиант»).
Душа боится верить в неизбежность,
Теперь ты знаешь, что такое смерть —
Сияй, мой сумасшедший бриллиант!
(Лапландия. «Сумасшедший Бриллиант»).
Частотным символом в рок-текстах является зверь. Это, как правило, какое-то мифическое существо:
У века каждого на зверя страшного
Найдется свой однажды волкодав
(Мельница. «Волкодав»).
Найдется свой однажды волкодав
(Мельница. «Волкодав»).
Иногда в рок-поэзии лирический герой узнает в себе какие-либо черты, роднящие его со зверем, или даже уподобляет себя ему:
Без таких вот звоночков,
Я же зверь-одиночка
Промахнусь...вернусь ночью
Не заметит никто
(Земфира. «Легенда»).
Я же зверь-одиночка
Промахнусь...вернусь ночью
Не заметит никто
(Земфира. «Легенда»).
Словом «зверь-одиночка» подчеркивается нечеловеческая сущность лирической героини, её безумное волчье одиночество среди мира людей.
Словно раненый зверь,
Я бесшумно пройду по струне
(Мельница. «Воин вереска»).
Я бесшумно пройду по струне
(Мельница. «Воин вереска»).
Образ зверя часто конкретизируется в рок-поэзии, и это, как правило, волк:

Черный ветер гудит под мостами,
Черной гарью покрыта земля
Незнакомые смотрят волками
И один из них может быть я
(Б. Гребенщиков. «Голубой огонек»).
«Образ волка связан с определенным символическим рядом ассоциаций, неизменно повторяющимся в разные времена и у разных народов, в том числе и не имеющих общей праистории. Это общность образов волка и собаки. Часто повторяющаяся связь зверя-волка с солнцем или солнечным божеством. Роль волка-собаки как посредника между небесным и подземным миром, а также проводника в загробном царстве. Чаще всего повторяется военная символика волка: волк — покровитель воинских сообществ, а воинственные нации часто называют волка своим прародителем. В патриархальных обществах образ волка тесно связался с ролью жениха или похитителя женщин, соответственно насыщаясь эротической символикой. Со временем волк начинает ассоциироваться с преступником, разбойником из дикой глуши», — находим в Словаре символов.
У Гребенщикова в приведённом контексте слово «волк» употребляется в значении «враг, неприятель». То же самое употребление находим и у Цоя:
И горел погребальным костром закат,
И волками смотрели звезды из облаков,
Как, раскинув руки, лежали ушедшие в ночь,
И как спали вповалку живые, не видя снов
(В. Цой. «Легенда»).
И волками смотрели звезды из облаков,
Как, раскинув руки, лежали ушедшие в ночь,
И как спали вповалку живые, не видя снов
(В. Цой. «Легенда»).
Особняком в рок-текстах стоит употребление прилагательного «черный». В Словаре символов «черное — это первобытная тьма, неявленное, пустота, зло, тьма смертная, позор, отчаяние, разрушение, испорченность, горе, печаль, унижение, возвещение, тяжесть, постоянство. Черное означает время жесткое, беспощадное и иррациональное, и ассоциируется с темным аспектом Великой Матери, особенно с Кали, которая есть Кала-Время, и с черными девственницами Черный или иссиня-черный Цвет хаоса На Западе черный ассоциируется с трауром и с мрачным аспектом колдовства, черной магии, черных искусств».
В рок-поэзии черный цвет означает что-то мистическое, потустороннее, страшное:
И как хлопало крыльями черное племя ворон,
Как смеялось небо, а потом прикусило язык
(В. Цой. «Легенда»).
Как смеялось небо, а потом прикусило язык
(В. Цой. «Легенда»).
Ворона — это уже с древнейших времен, зловещий символ, особенно карканье ворон. Ещё у Н. Гумилева в одном из самых известных его стихотворений «Заблудившийся трамвай» карканье ворон — это предвестник встречи с потусторонним миром:
Шел по улице я незнакомой
И вдруг услышал вороний грай
И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай
(Н. Гумилев «Заблудившийся трамвай»).
В черных пятнах родимой злости
Грехообиженным дураком
(А. Башлачев. «В чистом поле — дожди»).
Иногда весь мир может стать черным:
Солнце
Меня встречает черными лучами
И птицы удивленно закричали
Теряя скорость в черной высоте
Ветер
Плюёт в лицо, трясет меня за плечи
И черным вихрем мчится мне навстречу
Ища спасенье в черной красоте
(Смысловые галлюцинации. «Черная»).
И вдруг услышал вороний грай
И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай
(Н. Гумилев «Заблудившийся трамвай»).
В черных пятнах родимой злости
Грехообиженным дураком
(А. Башлачев. «В чистом поле — дожди»).
Иногда весь мир может стать черным:
Солнце
Меня встречает черными лучами
И птицы удивленно закричали
Теряя скорость в черной высоте
Ветер
Плюёт в лицо, трясет меня за плечи
И черным вихрем мчится мне навстречу
Ища спасенье в черной красоте
(Смысловые галлюцинации. «Черная»).
Особую роль здесь играет и само название произведения. Вся жизнь лирического героя превратилась в сплошное черное пятно. Солнце, лучи, ветер, красота — всё приобретает черную окраску.
У «Агаты Кристи» — в связи с эстетической позицией группы, для того, чтобы выдержать стилистику песен — черный цвет для них становится самым любимым («Я обожаю черный цвет»):
Плюнула огнем и зашипела
Догорая, черная свеча
(Агата Кристи. «Садо-мазо»).
Догорая, черная свеча
(Агата Кристи. «Садо-мазо»).
Очень часто рядом с эпитетом «черный» находится слово «смерть»:
Моя смерть ездит в черной машине
C голубым огоньком
(Б. Гребенщиков. «Голубой огонек»).
C голубым огоньком
(Б. Гребенщиков. «Голубой огонек»).
Словом «смерть» подчеркивается, насколько зловещ и опасен черный цвет. С символом черной машины можно провести параллель еще со сталинскими временами, «страшные годы ежовщины» (А. Ахматова «Реквием»), когда на таких машинах забирали «госпреступников».
Итак, в рок-поэзии существуе символы, употребление которых связано с традициями, но в то же время рок-поэты вносят что-то новое, исключительное, характерное именно для этого направления музыки.

ИсточникиИсточники:
Бахтин М.А. Вопросы литературы и эстетики. М., Художественная литература, 1975.
Долгополов Л. На рубеже веков: О русской литературе конца ХIХ – начала ХХ века. М., 1985.
Символы в рок-поэзии. [URL: http: www.dissercat.com/content/lingvisticheskaya-est...]
Тимашева М. Я не люблю пустого словаря // Театральная жизнь. 1987. № 12. С. 31 – 33.
Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
Энциклопедия символов. URL: lib.rus.ec/b/166834

Название: «...а вместо сердца барабан...»
Автор: WTF Rock Around the Clock 2015
Бета: WTF Rock Around the Clock 2015
Форма: сет порошков
Пейринг/Персонажи: рок-музыканты и их фанаты
Категория: джен
Количество: 12
Рейтинг: G — PG-13
Для голосования: #. WTF Rock Around the Clock 2015 - работа "«...а вместо сердца барабан...»"
Автор: WTF Rock Around the Clock 2015
Бета: WTF Rock Around the Clock 2015
Форма: сет порошков
Пейринг/Персонажи: рок-музыканты и их фанаты
Категория: джен
Количество: 12
Рейтинг: G — PG-13
Для голосования: #. WTF Rock Around the Clock 2015 - работа "«...а вместо сердца барабан...»"

тилль линдеманн икал и и думал
что блин сегодня за напасть
ах да фб тогда ну ладно
покласть
всё всё куда-то исчезает
как только джаггер запоет
ей-ей какая-то воронка
не рот
в подъезде лампочки разбиты
во тьме кромешной слышен мат
то радуется группы даркнесс
фанат
у ас/dc на концерте
швыряет всех то вверх то вбок
попеременно постоянный
ток
примерил мэй костюмчик фредди
сидит не так торчит живот
но кудри кудри это просто
улет
слезами залит зал концертный
уже утопленники есть
не шоу у радиохэда
а жесть
весна в японии бушует
и ветка сакуры цветёт
джей-рокер в смелой мини-юбке
идёт
терзает пол свою гитару
в кровь пальцы просто докрасна
она ж любимая подруга
весна
а боуи спокойно бродит
по темноте и там и тут
и освещает всё сияньем
он крут
вновь исцелованный до смерти
поклонник выпал из кулис
то празднуют день валентина
все кисс
сид вишес стал вдруг пацифистом
и начал панков призывать
секс пистолз спрятанные дома
сдавать
ласкает рёв гитары уши
а вместо сердца барабан
не нужен мне шансон лишь роком
я пьян
что блин сегодня за напасть
ах да фб тогда ну ладно
покласть
всё всё куда-то исчезает
как только джаггер запоет
ей-ей какая-то воронка
не рот
в подъезде лампочки разбиты
во тьме кромешной слышен мат
то радуется группы даркнесс
фанат
у ас/dc на концерте
швыряет всех то вверх то вбок
попеременно постоянный
ток
примерил мэй костюмчик фредди
сидит не так торчит живот
но кудри кудри это просто
улет
слезами залит зал концертный
уже утопленники есть
не шоу у радиохэда
а жесть
весна в японии бушует
и ветка сакуры цветёт
джей-рокер в смелой мини-юбке
идёт
терзает пол свою гитару
в кровь пальцы просто докрасна
она ж любимая подруга
весна
а боуи спокойно бродит
по темноте и там и тут
и освещает всё сияньем
он крут
вновь исцелованный до смерти
поклонник выпал из кулис
то празднуют день валентина
все кисс
сид вишес стал вдруг пацифистом
и начал панков призывать
секс пистолз спрятанные дома
сдавать
ласкает рёв гитары уши
а вместо сердца барабан
не нужен мне шансон лишь роком
я пьян
@темы: челлендж, дизайн дневника, музыка, ЗФБ-2015

